Натали Дэкель. » English version.
Последние восемь лет мама боролась с раком. Я находилась у ее постели и это – дневник последних трех недель. Ее трех недель.
Даже в самых тяжелых ситуациях не теряйте веру, именно она станет Вашим стальным стержнем, который не даст погрязнуть под обломками обстоятельств. Тем стержнем, который не даст прогнуться в любую погоду и при любых обстоятельствах. Тем стержнем, который принесет силу и успокоение. Тем стержнем, который будет силен так же, как свет вокруг Вас; стержнем, который позволит душе расцвести, когда придет ее время.
Жизнь слишком коротка, чтобы с сожалением просыпаться по утрам,поэтому любите тех, кто принес в Вашу жизнь что-то хорошее, забудьте о тех, кто не принес, и верьте, что всему происходящему есть свои причины.
Если Вам предоставляется шанс – воспользуйтесь им. Если это позволит изменить Вашу жизнь – не сопротивляйтесь. Никто не говорил, что жить будет легко, просто было обещано, что она стоит того, чтобы жить
21 октября 2009 г.
Яэль-Луиз, моя дочь, говорила о маме без остановки последние два дня. Она упаковала свою маленькую сумочку и решила навестить «бабу Люду». Я чувствовала, что что-то должно произойти. Я ЗНАЛА: это витало в воздухе все время. Яэль-Луиз спала на нашем диване в гостиной; ей стало нехорошо, она постоянно старалась прилечь. Двумя днями позже у нее поднялась температура.
Я точно знаю, что это связано с мамой.
Я звонила маме четыре раза в день, чтобы поддержать ее. Всегда первым делом утром, еще до того, как придет ее сиделка, затем в обеденное время, когда я уже на работе, потом после перерыва на чай и вечером после работы. В последнее время маме все хуже и хуже, ей все тяжелее говорить со мной. Иногда я говорю, а она просто слушает. Я прислушиваюсь к ее дыханию в трубке телефона, но этого никогда не достаточно. Хотя я могу слышать и чувствовать ее.
28 октября 2009 г.
Я знаю, что ей все хуже и хуже. У меня есть проблема, и я не знаю как ее решить. Мама живет в другой стране. У нас не много денег; я – единственная, кто работает. Как я могу оставить все здесь и поехать туда, и как я могу быть уверена в том, что буду там вовремя. Меня ужасала мысль о том, что если я подожду еще пару недель, то она уйдет не дождавшись меня. К тому же, мой последний визит в августе было непросто перенести. Каждый раз, когда я смотрела на маму, я чувствовала ту боль, что пронзала ее, и как она страдала. И тогда, и даже сейчас я НИЧЕГО не могу сделать! Не знаю, что лучше делать. Должна ли я оставить все как есть и просто ждать вызова на похороны или мне нужно лететь туда как можно скорее…
Я говорила со своими друзьями. Я даже обращалась за советом к приятным людям здесь, в библиотеке Соуфамптонского университета. Что мне делать? Карен, бывшая медсестра, сказала мне: «…просто делай то, что ты можешь, что ты сможешь вынести эмоционально. Это наилучшее решение, в этой ситуации». Это то, что я должна сделать, даже если меня разорвет на части. Я, наверное, не поеду, и пусть все идет так, как идет. Я не могу этого вынести.
29 октября 2009 г.
Я позвонила маме в 10:30 утра. Это был мой второй звонок сегодня. Она сказала мне, что они уже в больнице Цфата, пришли на следующую химиотерапию. Но она очень плохо себя чувствует. Последние несколько дней рвота не прекращалась и ее организм полностью ослаблен. Она потеряла сознание в регистратуре. Поэтому когда я позвонила в 10:30 этим утром они как раз собирались ее госпитализировать. Я уже ПОНЯЛА, что Я ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС! Я приняла РЕШЕНИЕ!
О Боже! Я чувствовала, что время давит на меня; я должна попасть туда как можно скорее! В обеденный перерыв я помчалась домой и дождалась пока Гиль и Яэль-Луиз (ей все еще нехорошо) вернутся домой со встречи по-поводу Хеллоуина, которая проходила в местной библиотеке (12:30). Я забронировала онлайн билет на самолет, осталось только заплатить за него и проверить наличие онлайн-билетов на автобус до Хитроу.
Я быстро объяснила Гилю произошедшее и одновременно начала впечатывать данные моей визы в первый же попавшийся рейс, но оказалось, что на нем уже нет свободных мест. Поэтому мне пришлось купить билеты на следующий, который был значительно дороже. Это ничего. Итак, самолет EL AL, который, вероятно, лучший, вылетет сегодня ночью, прибытие в Израиль в 5 утра. Тут же я заказала билет на автобус, который, к счастью, отправлялся со станции, которая находится рядом с моей работой, в 17:00! Прекрасно!
Итак, поцеловав Яэль-Луиз и Гиля, я понеслась назад на работу (без вещей, только сумка, с которой я хожу на работу, и билеты). Да, я еду!
5 вечера.
Я вся на нервах. Нервничаю потому, что придется путешествовать в одиночку, и еще лететь. Линда (моя коллега) почувствовала это, поэтому пошла со мной и ждала до тех пор, пока автобус не пришел на станцию. Это действительно очень хорошо с ее стороны: остаться после работы, несмотря на холодную погоду.
Я в автобусе, время летит, пункт назначения медленно приближается. Слишком медленно, как мне кажется. Тихо слёзы катятся по щекам, несмотря на мои усилия их удержать. Не хочу, чтобы кто-нибудь заметил.
Я в Хитроу. Доехала хорошо и теперь жду самолет. Не могу ждать. Я должна быть там как можно быстрее, это вопрос жизни и смерти, в буквальном смысле слова. Почему они двигаются так медленно, мне же нужно увидеть маму. Все слишком медленно. Может в самолете мне удастся уснуть.
Не тут-то было. Мой сосед оказался чрезмерно дружелюбным парнем из Лондона, который сейчас проживает в Бейт-Шемеш. Он решил показать мне фотографии своей семьи и своей работы, все прошлое, настоящее и будущее, и еще, и еще, пока не утомил сам себя и не заснул. Я конечно спать уже не могла. Поэтому ждала, выглядывая из иллюминатора, как будто я могла увидеть больницу. Смешно, конечно, это не возможно – до нее много миль.
30 октября 2009 г., 5 утра
Самолет приземлился. Я быстро прошла контроль не имея багажа. Затем поезд. Погода на улице холоднее, чем в Англии. Дождь беспощадно хлещет по окнам поезда, небо темное. Как кстати. Поезд остановился, и мое уставшее напряженное тело выскочило наружу под дождь.
Я увидела папу. Мой бедный дорогой папочка терпеливо стоял снаружи, возле проводника, ожидая меня. Господи, как же я скучала по нему и маме. Он крепко на мгновение меня обнял; полностью погружен в себя, хоть и рад меня видеть. Его мысли всегда только с мамой. Он с ней каждый момент ее жизни. Какой он счастливый.
К дому родителей мы приехали на папиной машине, там я смогла быстро принять душ. Как странно видеть пустым тот дом, который всегда ассоциировался с мамой, с ее жизнелюбием, бьющей через край энергией. Ее присутствия уже не ощущается, хотя последние три месяца она провела на диване в гостиной. Странно видеть этот диван пустым, неживым, как будто она уже ушла.
Нет, я чувствовала это. Мамочка жива. Мы должны пойти увидеть ее сейчас. Мы быстро захватили из дома чистые вещи для мамы и поехали в больницу. В целом мы потратили два очень долгих часа прежде, чем я увидела ее.
Мы ехали в Цфат. Вдоль трассы горы, горы. Дорога серпантином закручивалась в туман, дождь хлестал по нам так, будто мы были виноваты в том, что происходит. Красота вокруг слишком умиротворяющая. Но я не готова к ней, я игнорирую ее. Все, чего я хочу, – увидеть маму.
Мы подымались все выше и выше, я видела невероятную красоту давно забытой Галилеи, где облака проплывали ниже горных вершин. Гора Мерон касалась неба, и я видела вспышки, появляющиеся там и сям зигзагообразными молниями из глубины штормового неба до ее вершин. Я видела, но не ощущала происходящего. Я просто наблюдатель.
С этого момента я отключила свои чувства. Отныне я только наблюдатель, и я буду делать то, что должна сделать, что я пришла сделать. Я ЗНАЮ ЭТО.
Мы подъехали к больнице. Я не могла дождаться пока папа припаркуется и убежала бы, если бы знала куда. Здание состояло из старых и новых частей, нелепо соединенных между собой. Это было смешение архитектуры 70-х годов с их узенькими стеклянными окошками и тоннами серого бетона. Мне казалось, что это гроб с грустными глазами. Мы вошли в этот гроб.
Здесь работали люди, я чувствовала запах больницы, видела бегающих медсестер, уборщиц и пациентов в их казенных пижамах. Ничего личного. Здесь делают то, что должны делать. Но для меня мама – это личное. И я не знаю как привыкнуть к этому отстраненному отношению.
Наконец, мы подошли к ее палате. Я вбежала в нее и увидела маму. Вместо энергичной женщины, которая никогда не брала больничного, здесь была хрупкая тонкая женщина, выглядевшая старше своих лет. Хотя я и видела постепенное ухудшение ее состояния в течение последних пяти месяцев, её вид все равно шокировал меня. Мама всегда была похожа на саму ЖИЗНЬ, полную энергии, ведущую нас к нашим целям. Сейчас мы столпились у ее тела, настолько тонкого, что кости выпирали во всех направлениях. Ее огромные синие глаза смотрели на меня, будто пытаясь охватить всю за один раз. Она принимала несколько препаратов, которые останавливают рвоту. Она уже в течение некоторого времени не могла нормально есть, а даже если и пыталась – все выходило обратно.
Ее волосы торчали клочьями вокруг головы. Она выглядела такой хрупкой. Но немедленно взяла командование на себя и своим сильным голосом рассказывала как она добралась, где ее госпитализировали, спрашивала не нужно ли мне поесть или отдохнуть. Все еще заботится о нас. Контролирует себя. Никогда не жалуется, несмотря ни на ту сильную боль, которую я вижу в ее глазах, ни на сложившиеся обстоятельства или условия, в которых она находится. Ни слова. Кроме слов обсуждения с медсестрами ее состояния. Кроме обсуждения с докторами как она может помочь им найти вены, так как химиотерапия за последние восемь лет уничтожила их почти полностью. Она здесь, чтобы помогать. До последнего вздоха. Она даже извинялась перед медсестрами за свою неповоротливость и невозможность двигаться.
Одними из первых слов, сказанных ею мне, были: ‘Мне неловко; я занимаю кровать для какого-нибудь пациента…». И я подумала, сколько людей в подобной ситуации, зная, что они могут умереть в любой момент, думали бы о других? Она еще и вязала в перерывах между ужасными приступами боли. Днями и ночами она вязала большой серый шарф для Миши (цвет прекрасно оттенял ее глаза). Она и мне связала шарф и уже отправила его почтой в Англию этим утром. Он был прекрасно сделан, теплый, объемный и пах маминым любимым парфюмом. А теперь она вязала еще один – для Миши. Я предложила ей отдохнуть от вязания, спицы просто выпадали из ее ослабевших пальцев. «О, нет, – сказала она, – я должна закончить его, пока я еще могу. У меня нет много времени». Она знала, что не выйдет из больницы живой…
И поэтому она аккуратно вязала. Иногда не могла сдержать стоны от боли, но все равно продолжала вязать. Даже если боль продолжалась, она продолжала вязать. Иногда боль была настолько сильной, что она не могла концентрироваться и начинала делать ошибки. В такие моменты она смотрела на меня, спрашивая: «Оставить мне все как есть и продолжать дальше, или начать снова, чтобы сделать все идеально?» Есть ли у меня достаточно времени, чтобы закончить это? Я отвечала: «Сделай лучше, если хочешь, но, в сущности, не переживай». Она была перфекционисткой во всем. И она распускала целую часть и начинала снова. Работая, работая по ночам, как принцесса из сказки Андерсена, как будто это был вопрос жизни и смерти, и ее вязание могло спасти кого-нибудь.
Между тем, я спала на кровати рядом с ней, оставаясь с ней и днем, и ночью. В наши первые выходные все было хорошо. Мы были все вместе, как не было уже долгие годы. Мама, папа, Миша и я. Только мы, семья. Мама вязала, папа возился, озабоченный тем, чтобы всем было хорошо. Миша сидел с ноутбуком, я читала и следила за мамой. Ничего как будто не предвещало беды. Я чувствовала спокойствие и тишину, как в ночь перед бурей. Это был день или два, совершенные и наполненные нашей ЛЮБОВЬЮ. Мы были единым целым. Мне это нравилось и каждый из нас ощущал эту целостность, эту любовь, такого не было уже долгие годы.
Это была первая суббота, мама внезапно сказала: «Иди с папой, я хочу, чтобы ты купила себе что-нибудь от меня, может, платье». Я недоумевала, почему она хочет, чтобы я ушла, ведь я только недавно приехала, но мысль о том, чтобы иметь что-то от нее, мне понравилась. Поэтому мы ушли, оставив с мамой Мишу. Мы отправились в небольшую деревушку – Таршиху – неподалеку и хорошо провели время в маленьком магазинчике. Это было похоже на волшебную пещеру, полную прекрасной одежды и внимательных продавцов. У меня никогда прежде не было такого опыта покупок. Я чувствовала себя королевой. Неожиданное удовольствие в череде неприятностей… Продавец крутился вокруг меня с кипой прекрасных платьев и брюк, искренне пытаясь помочь. Было так мило, что кто-то беспокоится и заботится обо мне, я полностью отвлеклась от проблем. Папа не обращал внимания на цены и купил мне два платья и двое брюк… Мы вернулись домой, я быстро приняла душ, взяла шерсть для маминого вязания. Она уже закончила шарф для Миши и у нее закончилась пряжа, которая бы отвлекала ее от боли.
Никогда не думала, что может быть еще хуже. На следующий день боль стала сильнее, выйдя за грань терпения человека, даже маминого. Ей начали вводить морфий внутривенно, он угнетал ее жизненные силы так же верно, как и душевные. Она больше не вязала.
Мы приехали, Миша уехал. Папа уехал тоже, ему нужно было на работу с утра. Сидеть с любимой мамочкой днем и ночью стало моей рутиной. Папа ходил на работу и приходил вечером на несколько часов, Миша забегал каждый день вечером посидеть с ней пару часов. Время потеряло свое значение. Больше не было «выходных» и «будних», «утра» или «вечера». Было только время морфия и смены капельниц. Они постоянно капали и менять их надо было каждые два-три часа. Ее тело необходимо было двигать, так, чтобы не было застоя крови или пролежней – тоже каждые два три часа. Массажировать тело для улучшения циркуляции крови; менять мешки стомы из живота каждые несколько часов или чаще в зависимости от обстоятельств. Хотя, это не так важно, как тот опыт с мамой, так что я, пожалуй, начну сначала:
Мы вернемся в ту ночь, когда боль усилилась, но мама все еще отказывалась от морфия. Будучи сама медсестрой, она прекрасно знала о последствиях применения, о том, как он скажется на самом ее существовании (о чем мы еще не имели ни малейшего представления). Она пыталась сделать все возможное, чтобы избегать его как можно дольше, вплоть до того, что спорила с нами о том, какие препараты использовать, а какие нет.
Мы подолгу общались. Она рассказывала мне о том, что знала о грядущем, говорила о том, что она хочет, чтобы я взяла с собой в Англию – некоторую ее одежду и несколько вещей, которые она хотела бы отдать мне. Беспокоилась об отце, о его физическом и эмоциональном состоянии. Просила меня быть тем, кем всегда была она: хранительницей семейного очага. Она сказала мне, что как только начнется прием морфия, она уже не сможет говорить; доктор будет постепенно увеличивать дозу, что и приведет к такому результату.
Она также рассказала о докторе Ваксмане, который был ее старинным другом и оперировал ее все эти долгие восемь лет. Она попросила его увеличить ее дозу морфия настолько, чтобы она могла больше не терпеть боль, чтобы она могла уйти… Хотя он исходя из моральных принципов этого не сделал.
Ухудшение наступило на следующий день. Мама должна была принять морфий, но его готовили слишком медленно, а боль была невыносима. Она каталась от боли, слезы текли по щекам, и я тоже плакала в осознании своей невозможности помочь, пытаясь обнять ее, будто этим я смогла бы взять на себя хоть часть ее боли. Мама попросила меня перестать плакать. Она сказала: «Одного из нас вполне достаточно» и так оно и было.
Я бегала туда-сюда по коридору, спрашивая медсестер и докторов о том, когда же уже доза будет готова. Тогда еще я не знала, что каждый раз для того, чтобы дать морфий, необходимо заполнить кучу бумаг и специально его приготовить. Поэтому я начала за два-три часа предупреждать персонал о необходимости приготовить следующую инъекцию (боясь пропустить и допустить ужасную боль моей бедной мамочке). С этого момента моя рутина была установлена.
Я чувствовала себя полезной. Я не плакала. Я молча помогала маме. Сначала, в первый день приема морфия, она все еще могла говорить и даже поспать несколько часов. Я была так счастлива, это был первый день (и единственный) за много месяцев, когда она действительно смогла заснуть без боли. Второй день принес с собой спутанность и галлюцинации. Она чувствовала себя виноватой, потому что осознавала происходящее (думала, что таблетки не фиолетовые, а розовые, путала их дозы). Она пыталась себя контролировать, но ее контроль ускользал, как вода сквозь пальцы, с каждой минутой. В начале мы с ней были так счастливы, что у нее впервые почти ничего не болит или что хотя бы боль терпима. Впервые за месяцы, а то и годы боли и страданий пришло облегчение. Она не переставала благодарить персонал и говорить, как это прекрасно снова не чувствовать ужасной боли. Она была так счастлива. Она отдыхала. На следующий день пришли ее коллеги по работе из больницы и она все еще узнавала их, дрейфуя на грани между сном и реальностью, а морфий усиливал такое состояние. Ее глаза оставались открытыми все оставшееся время, которое я была с ней, все две недели, начиная с этого дня. Она перестала узнавать папу и Мишу или меня, хотя слышала наши голоса и реагировала, если кто-нибудь называл ее по имени.
Я смотрела на нее и комок подкатывался к горлу, какой уязвимой она выглядела и как отличалась от той сильной женщины, которой была даже моменты назад. Я поворачивала ее тело из стороны в сторону, чтобы у нее не образовались пролежни от неподвижности, но они все равно появлялись, а вместе с ними – кровотечения и еще больше боли.
Ей было все тяжелее; в первое время в ней еще просыпалось узнавание, эти маленькие островки знакомой мне мамы, которая отказывалась от помощи, пытаясь сохранить независимость любой ценой. Она говорила, что мы с ней сами справимся со всем. Мы не должны беспокоить медсестер. Хотя в последнее время она чаще пребывала в бессознательном состоянии, я уже научилась видеть, что боль, которая ее мучает, усиливается, несмотря на морфий. Но сказать об этом она мне уже не могла. И поэтому я начала просить о помощи. Она стала такой тяжелой, что самостоятельно передвигать ее я уже не могла.
Ее тело застыло, как будто она уже была мертва, ее руки искривились в совершенно неудобном состоянии, но я не могла их выпрямить, так как это причиняло ей еще больше боли. Но сейчас это было и неважно, а важным было то, что ее вены очень истончились, а любое движение могло привести к тому, что морфий медленно капал уже в лужицу на полу, а не в ее руку. Иногда это случалось. И каждый раз менялись ее простыни, менялась ее больничная одежда. Все вокруг менялось.
Ее ноги стали багровыми и обескровленными, поэтому мне приходилось приподымать и массажировать их, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию. Обычно она любила чистоту и очень заботилась о личной гигиене, поэтому я старалась мыть ее каждое утро, менять ее ночнушку и простыни, даже сбрызгивать ее любимыми духами Диор, чтобы она чувствовала себя настолько обычно, насколько это было возможно.
Медсестры очень ее любили, у нее постоянно было много посетителей; доктора, уборщицы – все любили эту необыкновенную женщину, мою маму. Еще я познакомилась с интересной женщиной из соседней палаты. Она тоже когда-то была медсестрой (как мама). Но важно то, что у нее были карты Таро и книга Ошо; иногда она выглядывала из палаты, чтобы увидеть меня, или я заглядывала к ней, чтобы поддержать и успокоить друг друга. Тут мне повезло.
Мама перестала даже пытаться есть. Сначала так получилось потому, что я не могла разбудить ее настолько, чтобы она могла что-то проглотить; несмотря на то, что ее глаза были открыты, она не была со мной. Даже то, что я ее усаживала, не помогало. Она не глотала. Глотательный рефлекс умер вслед за почками. Все, что было внутри, опухло до ненормальных размеров. Ее живот был как шар. И находясь рядом с ней, держа ее за руку, пытаясь смочить ее губы и рот, видя, как она не ест, не пьет, даже не живет, просто существует здесь, напомнило мне о смерти ее матери (моей бабушки). В конце жизни у бабушки тоже было раздутое тело.
И сейчас я находилась рядом с телом, которое уже никого не узнавало. Я молилась тогда о том, чтобы моя смерть была иной.
Я размышляла о том, что ее тело больше не принадлежит ей, а душа, все еще живая, заперта в нем, как в клетке, и не может выбраться наружу. И я начала с ней разговаривать, говорить в моей голове, в моих мыслях. Я советовала ей идти к свету, позволить телу уйти по пути, в котором уже нет возврата. Боль была настолько сильна, что ее тело скрючивалось, выгибаясь и разворачиваясь (тело, которое в в последние дни с трудом поднимали даже четыре человека). Морфий больше не помогал.
Однажды ночью, несмотря на то, что она уже не разговаривала и не узнавала никого, она произнесла: «Возле моей кровати стоит мужчина в белом, скажи ему, чтобы ушел. Скажи ему, что я НЕ ХОЧУ УХОДИТЬ. Я остаюсь здесь». Я знаю, что она видела; ее звали в лучший мир. Но знание этого не сделало возможность отпустить ее легче, как и не сделало понятнее то, что я сказала потом. Потому что я ответила, что он – мой друг, и что не о чем беспокоиться, но в продолжение следующих нескольких дней она все еще видела его (по ее глазам я видела где именно он находится). Она так боялась его, что все ее тело пыталось отодвинуться от него, все происходящее было так агрессивно и страшно что я не знала, что делать. чувство бесполезности окатывало меня всю. Как мне стать нужной опять?
Карен, моя подруга, позвонила мне. У нее была идея. Она предложила, что я могу помочь маме на этом этапе ее перехода в лучший мир. И я начала. Карен, будучи профессиональным медиумом, помогала маме из Англии. А я пыталась помочь маме, находясь рядом с ней, в Израиле. Моя свекровь, Амалия, которая тоже медиум, пыталась помочь. Каждый день и каждую ночь я пыталась представить маму в переходном коридоре, и мы пытались вместе пройти к свету, к порогу света туда и обратно. Маме было тяжело не только физически но и душевно. Она еще не была готова к этому. Она верила что она существует только как тело, не как душа в теле, жизнь без тела ей неимоверно было даже представить.
Сначала я решила представить кресло-каталку и даже свою дочь, чтобы принести маме положительные воспоминания. Пришлось вернуться в тот август, когда мы приезжали проведать ее, и она еще могла двигаться. Мама сидела в инвалидной коляске, а на ее тогда еще здоровой левой ноге сидела моя дочь. Я катала их к детской площадке и обратно.
С помощью этой визулизации мы впервые вместе поехали к свету. В следующий раз в моем воображении она уже смогла немного ковылять сама, неуверенно двигаясь на своих одеревеневших мертвых ногах. Она все еще не понимала, что все, что держит ее здесь – только ее сознание. А сознание может представить, что угодно и быть там, где хочется. Постепенно мы научились управлять визуализацией и однажды я даже встретила маму самостоятельно идущую ко мне, она была чем-то озабочена, одетая в свою белую больничную униформу и готовая к работе. Параллельно с нашей духовной работой, Гиль, из Англии, помогал всем, чем мог, и я уверена, что моя дочь Яэль-Луиз, которая осталась с Гилем, была в курсе происходящего. Прогресс был, хотя и очень маленький.
В процессе перехода, который происходил в наших мыслях и ее душе, первым мама встретила своего отца. В следующий раз мы встретили ее сестер (одна из которых умерла, а другая живёт в Израйле). Но идея была в том, что она осознала что она может начать двигаться между реальным и астральным мирами, контролировать свою жизнь больше, чем раньше. Медленно она все ближе и ближе приближалась к тому порогу, через который можно уйти. Но она все еще колебалась. Как же кто-то может оставить все, что он знает и любит, отправившись в неизвестность, отличающуюся от всего, что он видел прежде?
Итак, мы метались между заботой о мамином теле и помощью ее душе перейти в мир иной. Я не замечала времени. Я смотрела на свои часы только для того, чтобы подсчитать время следующей медитации, смены позиции тела или смены следующей дозы морфия. Когда Миша сказал мне, что прошло уже две недели, и он хочет, чтобы я вышла из палаты хоть ненадолго и сходила в ресторан, я ему не поверила. Уже пятница, две недели! Как это может быть, если я чувствовала, будто только приехала. Я не могла и не хотела оставлять маму, не сейчас. Я боялась, что она может уйти, когда меня не будет рядом с ней, а для меня было очень важно быть с ней когда все закончится, проводить ее как она всегда проводила меня в жизни.
Возможно, думала я, она не сможет уйти, пока я здесь. Возможно, что связь матери с дочерью слишком сильна, не смотря на то, что она хочет мира и спокойствия, без проблем и забот о ней, взвалившихся на всех нас. И я, несмотря на тяжесть в сердце, несмотря на предубеждения, решила выйти из больницы. Миша пришел достаточно быстро, а вел машину еще быстрее, но, несмотря на это, все время мое сердце разрывалось между больницей и мамой и мной и машиной, уносившей меня все дальше от нее. Ресторан был довольно милый и дорогой, но я не смогла съесть ни кусочка. Миша попросил свою жену принести мне сменную одежду, так как я все еще была в той, в которой ушла на работу в день отъезда, но мне было все равно. Все мои мысли были с мамой. Наконец, мы поехали назад. Машина ехала быстро, мимо проносились горы, я молчала, переживала. Но ничего не случилось. Она все еще была там, все еще колеблясь, между телом и душой.
Первые полторы недели папа приходил по вечерам после работы. Но с ухудшением состояния мамы все хуже становилось и ему. Он уже не мог работать и беспрерывно плакал. Его босс посоветовал взять отпуск и отправиться в больницу ко мне и маме. Поначалу он причинял больше неудобства, чем помощи. Он беспокоился, плакал, ходил кругами и паниковал. Однажды он провел весь день с нами в больнице, а потом отправился домой на машине. Он еще не успел проехать горы, когда что-то сломалось. Что-то было не так и об этом свидетельствовали мигающие предупреждения на приборной панели. Он боялся вести такую машину по серпантину, поэтому вернулся к нам в больницу. Это было чистой воды провидение, потому что эта ночь была самой трудной из всех.
Маме становилось хуже с каждым днем. Ее почки давно отказали, но она все еще боролась, стремилась к жизни. Но так как жидкость, скапливающаяся в ее животе, не имела выхода, этой ночью она рвалась наружу в его поисках. Я уже привыкла, для меня стало рутиной, что в полночь ей становилось хуже, в 2-4 утра она стабилизировалась, а в шесть приходило облегчение и улучшение. Но этой ночью все было по-другому. Боль была столь нечеловечной, столь всепоглощающей, что никакие дозы морфия не помогали. Мама потела так сильно, что казалось, будто с нее текла вода. Ее тело постоянно содрогалось, она безостановочно плакала от боли, все время споря с кем-то в ином мире, где она находилась все больше и больше. Иногда мне казалось, что она и только она одна из всех людей может бороться с ангелом.
Для меня было только одно утешение, когда я смотрела в ее пустые, широко распахнутые глаза, со зрачками, почти заполонившими всю радужку от боли, что ее почти уже нет здесь, что уже не она чувствует все это, а только ее тело продолжает мучаться. A ее тело плакало, стонало от боли. Я была в ужасе и не чем не могла помочь, и только когда мешки стомы снова наполнялись (каждые несколько часов), я мыла их, высушивала и заменяла. Все – в специальных перчатках, потому что из каждой дыры ее тела вытекала жидкость, больше похожая на отходы нефтепродуктов, такая же черная. Даже рвала она чем-то по цвету похожим на нефть. Это было именно то, что находилось внутри нее и усиленно искало выход наружу.
В эту ночь, потребовались и мои, и папины усилия, чтобы уложить ее, не сорвав при этом капельницу с морфием. Доктор, дежуривший этой ночью, не знал, чем еще мы могли помочь. Он предложил еще больше увеличить дозу морфия и добавить смесь различных препаратов, которая может принести облегчение. Это было сделано, но что-то еще взрывалось внутри нее, и только после продолжительных криков и борьбы мамочка рухнула на кровать и забылась сном, принесенным морфием. Папа уехал около 4 утра, полагая, что этой ночью она уйдет. Он не мог вынести этого и попросил меня позвонить ему когда все произойдет. Несмотря на это, мне не понадобилось ему звонить.
Я вытирала ее лицо, смачивала ее губы и пальцы, мыла ее тело и надеялась, что эта ужасающая боль и мучение не вернутся. Так оно и было.
На следующий день ее навестили друзья и ее сестра. Я чувствовала, что маме осталось всего несколько дней. Но мама все еще существовала, все еще была здесь. Кожа вокруг ее губ стала синеватой и она казалась бы мертвой, если бы не ее широко распахнутые глаза. Глаза у нее были цвета неба жарким средиземноморским летом, цвета желания жить. Я видела диалог с кем-то в отражении ее глаз, в подергиваниях плечами и головой. Она говорила с кем-то, кто звал ее к свету, она в ответ обсуждала, изучала и даже спорила. Да, это моя мамочка, даже в лучшем мире.
Итак, мы продолжили работать с мамой над переходом, шаг за шагом по лестнице, ведущей к свету. Я могла видеть ее семью, которая ждала на той стороне. Я молила их помочь, взять маму от этих не человечных мучений, но они говорили, что ждут ее решения. Она должна сама захотеть прийти к ним. Как странно. Как может кто-то так сильно страдать и все еще хотеть находиться здесь? Возможно, что пока я думала только о том, чтобы прекратить ee боль, она думала о том, чтобы быть с нами, пока ее тело позволяет ей это, касаться нас, любить нас, даже если она уже практически ушла. Я не могла понять это тогда, но сейчас, сорок дней спустя, когда я пишу это, зная, что она уже в лучшем мире, все, чего я хочу – коснуться ее еле живого тела (хотя я бы никогда не причинила ей снова какой-либо боли).
Пару раз были и «ошибки». Медсестры случайно установили 150 капель морфия вместо 40 в час. Я сидела там, смотрела, как капают капли, и раздумывала. Я знала, что мамочка хотела этого и даже просила врача, но я была не готова. Я не могла позволить ей умереть от моей собственной руки. Не могла. Поэтому я побежала за медсестрой и попросила ее исправить ошибку. Если это обнаружится, то может стоить ей работы и карьеры. И это может стоить маминой жизни. Я все еще цеплялась за нее. Мы с папой смотрели друг на друга, зная, что мы можем сделать, но делали то, что должны.
10 ноября 2009 г., утро
Я разговаривала с мамой, говорила ей, что если она еще долго будет находиться в таком состоянии, то мне придется отложить возвращение в Англию; для нее уже не было возврата, а я еще должна лететь в Англию, к своей семье, к Гилю и моему маленькому ангелу, по которой я уже так соскучилась. Яэль-Луиз знала, где я была и что я делала и каждый раз, когда она звонила мне, говорила: «Мамочка, ты нужна мне! Возвращайся домой!» – и я отвечала: «баба Люда тоже нуждается во мне и в моей жизни есть только один шанс быть здесь с ней». Это был первый раз когда я уехала куда либо без моего ребёнка. Я не знала когда смогу вернуться домой. Фактически, я уже позвонила в EI-AL авиалинии этим утром и попросила их отложить мой вылет. Потом отправила электронное письмо на работу и попросила продлить мой отпуск. Когда я услышала, что мне не нужно будет платить за новый билет, потому что они решили этот вопрос, я почувствовала огромное облегчение. Билеты дорогие, и все же хочется поступить как лучше в этой ситуации. Наверное, и мама тоже это почувствовала. Может быть, она могла чувствовать, когда я расстраиваюсь или боюсь, и, как всякая мать, не могла оставить меня в таком состоянии. В общем, в тот день я чувствовала облегчение.
Последние три дня у мамы были приступы, похожие на эпилептические. Поначалу – раз в несколько часов, но со временем они участились и случались уже ежечасно. Каждый раз я пыталась разжимать ее челюсти, чтобы она могла дышать, все ее тело, скованное болью, сжималось так, будто она хотела выдавить себя из него.
Последние несколько дней она беззвучно говорила. Говорила со своим ангелом или кем-то, кто был там рядом с ней. Ее губы двигались, она говорила с кем-то, кто, наверное, звал ее к свету или еще куда-то, а она физически пыталась вернуться (как будто была удивлена и напугана), и возвращалась, но с изумленным выражением лица. И опять начинала разговаривать, делать что-то и отступать. Это завораживало. Только моя мама, даже не Яаков из Библии, который боролся с ангелом; будучи способной уйти, сражалась с ангелом мира за возможность остаться ЖИВОЙ.
Все эти дни у меня какое-то предчувствие, я чувствовала потребности выйти из палаты то по одной причине, то по другой. Когда женщина из соседней палаты выписывалась, она пригласила меня навестить ее уже дома (она жила в Цфате), куда я и отправилась ненадолго. Она хотела дать мне целый чемодан вещей пока я буду в больнице. Я знала, что не задержусь у нее надолго, я чувствовала, что сейчас мы на грани между светом и тьмой. Что-то должно произойти. Я почувствовала, что пора прощаться и ринулась назад в больницу.
Моя поездка заняла около получаса, для того чтобы поехать, взять вещи и вернуться. Когда я вернулась, все было по-прежнему, тихо и спокойно. Даже слишком спокойно. Что-то не то. Я даже проверила мамино дыхание. Она дышала, но очень слабо. У нее были проблемы с дыханием в последние дни, но раньше я хотя бы слышала его. Сейчас же мне приходилось прислонять мое ухо к ее губам, чтобы услышать что-то. Папы не было с самого утра. Он поехал чинить машину, но уже позвонил мне и предупредил, что направляется в больницу. Миша закончил работать и тоже направлялся к нам.
15:59
Солнце садилось за горы, окрашивая небо в ярко-розовый цвет. все было как то слишком тихо, необычайно спокойно. Не пели птицы, не разговаривали люди, не было привычной больничной суеты. Я снова посмотрела на маму. Приступы уже не прекращались. Ее челюсти на столько сильно сводило судорогой что зубы мололи язык на кусочки. Началось кровотечение. Я хотела помочь, но не знала как его остановить, поэтому позвала доктора. Наверное, нам придется снова увеличить дозу морфия. Пришел доктор Ваксман. Он смотрел на меня с грустью, зная, что больше мы ничего не сможем сделать. Затем он вышел, чтобы попросить увеличения дозы. Безмолвие нарастало.
Я чувствовала себя странно.
Я села рядом с мамой на той кровати, где провела последние три недели. Я ощущала пустоту и усталость, а потом на меня волной накатила сильная тошнота, ударив прямо в живот, в само солнечное сплетение. Я решила, что такое состояние вызвано тем, что последние несколько дней я практически не ела и не спала. Я снова посмотрела на маму, что-то изменилось. Она стала выглядеть моложе, умиротвореннее и она улыбалась… Впервые ее глаза были закрыты. Как во время сна. И что-то странное было вокруг нее. Я присматривалась, трогала ее лицо, пытаясь восстановить память пальцами. Синие пятна внезапно появились на ее шее, постепенно увеличиваясь и расплываясь. Я ЗНАЛА.
Я не была уверена, стоит ли мне подождать еще немного или бежать за помощью. Если помощь сейчас придёт, то ей будут насильно помогать и поддерживать жизнь в этом уже пустом двигателе. Я посомневалась, а потом ринулась к посту медсестер, слезы начали тихо течь по щекам. Когда я попросила медсестру пройти со мной и посмотреть на маму, она не ответила, ОНА ТОЖЕ ЗНАЛА.
Она смотрела, стоя на пороге палаты. Несколько медсестер подбежали к нам. Мы все смотрели – на умиротворение, на маму, на закат. Мама лежала, повернув голову ко мне, она улыбалась, и на ее лице было выражение такого умиротворения, будто она знала все тайны вселенной.
16:00
Я присела на краешек ее кровати. Прикоснулась щекой к ее щеке, пытаясь почувствовать ее до конца, пытаясь удержать тот ручеек жизни, который словно утекал сквозь мои пальцы прямо у меня на глазах. Она была теплой и тихой, спокойной и умиротворенной. Всё то, чего у неё не было последние полторы недели, а может даже последние 8 лет. Я же одновременно испытывала грусть и облегчение. Я ещё не осознавала последствий и смысла того, что произошло. Я только радовалась тому, что она уже не чувствует боли, и так уговаривала я её и себя (по большей части), а слезы стекали по моим щекам. Сейчас я чувствовала её так, как я всегда её чувствовала при жизни: немного отдалёной, неприкосновенной, прекрасной и такой полной жизни, что я не могла поверить, что это – всё осталось позади.
Зазвонил телефон, это была бывшая мамина начальница; она ждала, чтобы поговорить с ней, т.к. давно не видела её на прогулках возле моря, которые мама делала каждый день утром или вечером, даже находясь в инвалидном кресле. Я ответила: «Я думаю, что мама умерла, я не уверена. Простите, не могу говорить. До свидания». Это казалось таким нереальным: говорить эту ужасную чушь последних слов.
Я крепко держала её за руку, обнимала. Я не могла уйти. Медсестра позвала врача, он начал делать ЭКГ. Я заглянула через его плечо, может, это ещё не всё (я надеялась, что уже да, и в то же время, что ещё нет). Нет, линия прямая, как линейка, такая же прямая, как мамино тело сейчас. Она ушла.
Я села, солнце продолжало садиться, небо все еще было красным, как будто этот день никогда не закончится. Горы казались меньше, а небо – больше и холоднее. Сначала я позвонила Мише, не хотела говорить папе пока он в дороге во избежание несчастного случая. Я спросила Мишу, где он, он ответил: «Я в дороге». Я сказала: «Не спеши; ей уже не больно». Он молчал. Я положила трубку.
Я сидела и сидела рядом с мамой, прикасаясь к ее лицу и рукам. Я не могла сдвинуться. Даже на дюйм. Позвонил папа, сказал, что он уже паркуется. Я сказала ему: «Хорошо, поспеши». Положила трубку. Он пришел через минуту. Глянул. Отступил. Я сказала: «Поцелуй её, пока она еще тёплая». Он поцеловал. Потом пошел заполнять какие-то бумаги, делая хоть что-то, чтобы создать видимость занятости, притвориться, что этих ужасающих изменений не произошло. Он пролил столько слез за последние месяцы; а сейчас он действовал, помогая себе и нам двигаться дальше, пытаясь не замечать ту пустоту в палате, которую принесло мамино отсутствие. Я сидела тихо. Только капали слезы. Пришел папа и сказал собираться, но я не могла сдвинуться с места. Все еще не могла уехать.
Её тело остывало, я чувствовала, что что-то (возможно, мамина душа) отталкивало меня. Говорило мне смириться с этим. Зная, что ее уже нет в теле, все равно хотелось ее чувствовать, как-то удержать её тепло. Я забрала из-под неё подушки (те самые, которые я подкладывала, чтобы удержать ее на боку) и села напротив неё на кровать, на которой я спала. Я сидела, крепко прижимая ещё тёплые подушки к своему телу, вдыхая такой неповторимый запах моей мамочки. Мама выглядела такой же, как обычно, но слишком спокойной (такой спокойной она никогда не была), и такой умиротворенной, какой я никогда ее не видела. При жизни она была постоянно в движении. Она была яркой личностью, всегда на ходу, всегда в эмоциональном и интеллектуальном поиске. Она была как ветер: быстрая, активная и свежая, а сейчас она и есть ветер. Я сидела с мамой и пыталась понять, что я чувствую.
Казалось, что прошло много времени, но когда я посмотрела на часы, оказалось, что минуло только три часа. Я с неохотой поднялась и начала собирать наши вещи, сортируя их по пакетам и сумкам. Палата выглядела так чисто, будто здесь никого не было. Я снова подошла и села рядом с мамой, но чувствовала её уже по-другому: холодной, отчужденной и уже не мамой.
Открылась дверь; заглянула женщина, посмотрела на нас с мамой и начала говорить о тяжёлых больных, и о том, что за ними могут обеспечить уход, о том, что она представляет компанию, предоставляющую такие услуги, если вдруг нам понадобится. Она все говорила, а я сидела, и слезы текли по моим щекам. Я ждала, пока она закончит. У меня не было сил остановить ее. Я сказала: «Слишком поздно, она уже умерла». Женщина только поняла, что она на самом деле видит, подскочила, слегка вскрикнув и прижав руки к груди, а затем так быстро выбежала из палаты, будто за ней гнались черти. Дверь захлопнулась. Никого не осталось в этой палате. Кроме меня.
Зашел папа, сел рядом со мной, посмотрел на маму. Он смотрел и вдыхал то, что было мамой. На его лице – боль. Он встал, не мог сидеть, не мог осознать всё это. Зашел Миша. Он стоял, молчал и не смотрел на нас. Мама была всем его миром. На его лице отразился шок, он смотрел в никуда. Он застыл, как статуя. Папа попытался заговорить с ним. Папа был кое-как подготовлен к этому, у него было время, в то время как у Миши – нет. Все слова казались ненужными, его лицо отражало происходящие перемены. Он расхаживал, как тигр в клетке, вокруг мамы, его боль отражалась на лице, в голосе, он хотел, чтобы мы ушли, хотел остаться наедине с мамой и своим горем.
Папиным способом справиться с горем было движение: ходить, никогда не останавливаться, говорить, так, чтобы не было ни единого момента, в который понимание и тяжесть утраты свалились бы на него. Миша был другим. Она застыл в тишине и молчании, выделив себе отдельный угол, закрывшись ото всех, выстроив барьер, защищающий его от собственной боли. А я была все еще там, все еще с мамой, все еще думая, что могу быть полезной, наблюдая за всем пустыми глазами. Миша начал рассказывать мне о своем сне этой ночью: к нему пришла мама, такая же яркая, как в жизни, говорила с ним о том, что она собирается сделать, о том, что она хочет, чтобы он сделал, прощаясь с ним.
Они сидели на противоположной от меня стороне кровати, лицом к маме. Их боль вылилась в неприятный спор по мелочам о том, как и что. Папа пытался контролировать свою жизнь, взявшись присматривать за нами и говорить нам, что и как, и где. Но мы больше не были его маленькими детьми, в этом горе мы все были равны. Папа вышел, чтобы разобраться с некоторыми бумагами. Нас с Мишей выпроводили из палаты две медсестры, которые пришли удалить из маминого тела все трубки и завернуть её тело в больничную простынь для подготовки к следующему этапу.
Я больше не могла там находиться. Пришел папа, мы взяли сумки и спросили Мишу идет ли он с нами. Еще нет, он покачал головой, слезы текли по его лицу. Я никогда прежде не видела как он плачет. Я чувствовала себя настолько близкой к нему в этот момент, как никогда за все годы. Перед тем, как уехать, я заглянула посмотреть на Мишу с мамой, он был полностью погружен в свое горе, не мог отойти от тела, которое уже было накрыто с головой больничной простыней. Это была уже не мама.
Мы с папой ехали потрясенные. Я волновалась о Мише, о том, как он справляется, как он доберется домой после всего этого. Говорила с папой о нюансах документации (сейчас это было важно для него, в конце-концов, это то, что мы должны были делать).
Перед въездом в город папа свернул влево и сказал мне, что он чувствует, что мама хотела бы купить подарок Яэль-Луиз, в память о том, что мама всегда будет с ней и всегда будет думать о ней. Хотя мы были полностью опустошены, мы поехали в арабскую деревню неподалеку, где мне понравилась небольшая кукла, которую мы и купили. А затем снова повернули в сторону дома.
Пустой дом. Холодный мрамор пола. Повсюду воспоминания. Это слишком.
Папа устроился на диване в гостиной, как раньше, когда он ждал, что мама позвонит ему с ночной смены и он поедет за ней. Я воспользовалась возможностью и пошла в гардеробную, где мама держала всю одежду. Я нашла ту, которую мама хотела отдать мне, и она все еще пахла ее неповторимым запахом, который я хотела забрать с собой; поэтому положила вещи в сумку возле кровати в детской комнате. Я не хотела, чтобы папа знал об этой одежде, я чувствовала, что он захочет оставить все как есть, будто он все еще ждет маминого возвращения. Я не могла решить где мне спать, и вообще не чувствовала желания спать, но я не спала столько ночей, что в итоге заснула на маминой постели.
11 ноября, 2009 г. 5 утра.
Утро пришло быстрее, чем я предполагала. Мы поднялись и были готовы уже к шести утра. Неслись в машине по тихим, сонным улицам к горам, чтобы разобрать документы и договориться с машиной скорой помощи о доставке тела мамы на кладбище у моря. Поездка казалась нереальной. Слишком свежо наше горе, слишком быстро, слишком близко к жизни, чтобы чувствовать смерть вокруг и слиться с ней. Мне казалось, что мы только ездили переодеться, и едем назад снова проведать маму. Хотя, так оно и было.
Мы направились в регистратуру, разобрались с документами и получили на руки свидетельство о смерти. Затем отправились решать вопрос с перевозкой мамы. Мы ждали в коридоре, когда Ваксман, лучший мамин друг и коллега, бросился к нам, на ходу разговаривая по телефону, помогая нам с выпиской. Как только он подошел, жизнь вскипела. Он помогал разбираться с выпиской, с переездом, с документами, обзвонил весь больничный персонал, который хотел прийти на похороны, и даже повесил на доске объявлений персонала больницы приглашение на похороны. Мы были поражены.
Солнце ослепительно светило в наши лица, как-то отражая ту слепоту, которую мы чувствовали в наших душах. Я позвонила Мише, его голос звучал так, будто он проплакал всю ночь. Я должна была ехать на встречу с ним в управлении для решения вопроса похорон. Потом мы поехали в морг на опознание тела. Водитель скорой и санитар также были мамиными друзьями и коллегами, они молча проводили нас к моргу. Это была маленькая комната, которая вполне могла примыкать к ресторану или фабрике. Но как только мужчины, работающие здесь, проверили наши бумаги, дернули дверь холодильника – выехала тележка, на ней лежало тело.
Сильно похудевшая оттого, что много потеряла, укрытая тканью, как будто там была не моя мама, а кто-то другой. Работники откинули ткань с ее лица, я наклонилась и поцеловала ее в щеку, надеясь, все еще надеясь почувствовать ее тепло, узнать свою ‘старую’ маму. Но нет, тело было холодным и гладким, как мрамор. Казалось, будто мои губы прикоснулись к скользкой каменной статуе. Мои глаза видели маму, но на сердце была рана и пустота, и холод все еще цеплялся за мои пальцы и губы. На её лице застыла струйка крови с носа, будто говоря, что ничто не может спасти ее, она должна уйти.
Они отнесли ее в машину скорой помощи. Я села рядом с маминым телом. Боялась сесть ближе, но и отодвинуться боялась. Странно, словно время остановилось, будто в шоу, в котором я участвую только в качестве зрителя. Мы покинули больницу и направились по серпантину на побережье Нагарии, где жили мама с папой.
9:00am
Мы приехали на Старое кладбище Нагарии. В голубом небе ярко светило солнце, на горизонте не было ни облачка. Я видела море, но в отличие от естественного ощущения красоты и спокойствия, только опустошение переполняло меня, и пустота в моем холодном животе. Мы остановились, и они вынесли маму, положив ее на холодный длинный металлический стол. Здесь специальные люди совершат ритуальное омовение и проведут последние приготовления. Это уже не была мама. Я проглотила слезы (снова). Я не собиралась плакать. Я буду сильной.
Мы покинули это место и направились в управление, чтобы разобраться с некоторыми бумагами и договориться об оплате. Миша с женой уже были там. Миша, с красными опухшими глазами, был тих и конкретен. Мы все уладили, вышли и направились к нашей машине. Миша с женой отправились покупать напитки для людей, которые придут к папе, после похорон мамы. Мы поехали домой.
У нас было 3 часа до похорон, в течение которых дом должен был быть вымыт и готов к приему посетителей. Также мы должны были предупредить людей, которые хотели присутствовать на похоронах. Поэтому пока я убиралась, папа сидел на телефоне, пытаясь вспомнить, кому ещё позвонить.
Прибыл автобус из управления, который должен был доставить на кладбище тех, кто хотел присутствовать на похоронах. Мы с папой ехали в машине позади автобуса. Было странное и пустое ощущение конца. Солнце светило, но тепла я не чувствовала, просто все вокруг было ярко освещено: все недостатки и происшествия, все возрастая и не скрывая ничего. Как мама.
Мы приехали на кладбище. Здесь было много людей из больницы в Нагарии, где работала мама (большинство из них смогли прийти, и я удивилась, так как не знала остался ли кто-нибудь в больнице ухаживать за пациентами). Пришли люди из больницы Цефата, где она умерла; врачи, медсестры и даже заведующий отделением. И друзья, и семья.
12:00, полдень
Раввин символически порвал края наши одежды (только ближайшим родственникам) и прочел проповедь. Принесли маму, мне стало слишком душно, эмоции поднимались застревая в горле. Глава отделения первой помощи больницы, где работала мама, поднялась на небольшой постамент и произнесла речь о маме и о том, как она вдохновляла окружающих. Люди плакали и шмыгали носами.
Папа попросил меня сказать всем благодарственную речь. Я не была уверена, что смогу подняться и открыть рот, не разразившись слезами. Все плакали. Я поднялась и внезапно слова пришли сами, я начала говорить о том, что нужно жить каждым мгновением и наслаждаться им, как это делала мама. Это было так хорошо и красиво, что даже я сама стала себя лучше чувствовать. Я надела мамину ярко-бирюзовую футболку. Я была уверена, что это она мне подсказала (её слова, футболка цвета её глаз).
Процессия шла, неся маму во главе, затем шли мы – семья, и все остальные. Они положили ее вниз, в глубокую бетонную яму, и накрыли крышкой. Я чувствовала, что часть меня погребена там вместе с ней навсегда. Я посмотрела вверх на небо (главным образом, чтобы избежать слез), вдруг облака разошлись и солнце пробилось сквозь них, осветив все своими лучами, как будто мама уже была там, поддерживая нас и заботясь о нас. Я увидела прекрасное воспоминание: мамино счастье от рождения Яэль-Луиз. Радость освещала ее лицо. Я пыталась думать только об этом и не смотреть на то, что стало с ней сейчас. Все остальное прошло быстро и уже через минуту (по ощущениям) нам нужно было уезжать.
Мы отправились домой и тут же к нам начали приходить люди. Нескончаемым потоком они шли к нам до позднего вечера и весь следующий день. Я отправилась в Англию только вечером следующего дня. Я не могла здесь оставаться, я здесь задыхалась, мне нужно было уехать. Хорошо, что у меня был забронирован билет на 13-е, 6:00 утра.
Я покинула это место боли с сердцем, полным воспоминаний.
Смотрите ‘Навек тебя благодарю’- фильм, посвященный моей маме Люде:
12 февраля, 2010.
Натали Дэкель.









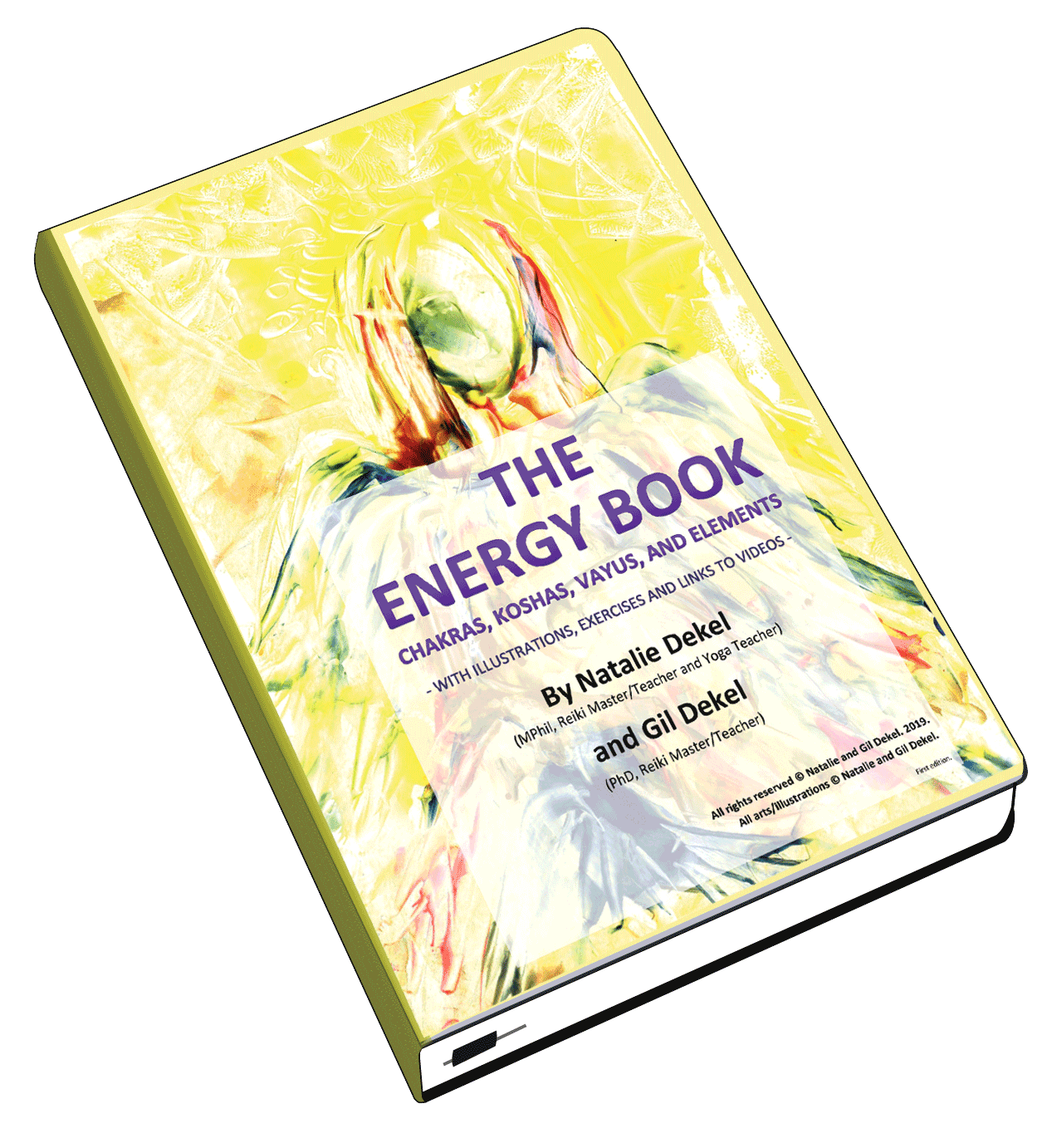
 - Reading with Natalie, book here...
- Reading with Natalie, book here...